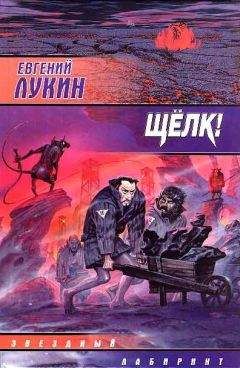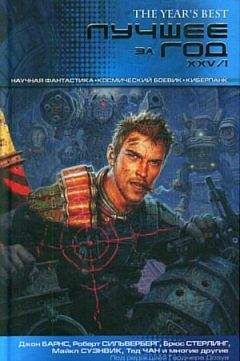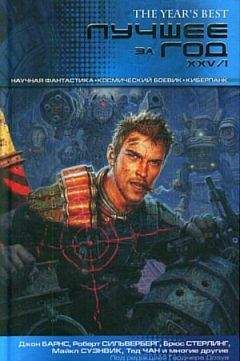Евгений Трубецкой - В. С. Соловьев и Л. М. Лопатин

Помощь проекту
В. С. Соловьев и Л. М. Лопатин читать книгу онлайн
Чтобы закончить наш спор о субстанциях, мне остается ответить еще на один упрек Л. М. Лопатина. Он находит у меня «смешение двух значений слова сущность» (сущности, как подлежащего, – субстанции в общелогическом или категориальном смысле этого понятия, – или субъекта качеств, и сущности, как основного качества или совокупности основных качеств у какого-нибудь подлежащего) (кн. 120, стр. 416). По его мнению эта постоянная подстановка одного понятия субстанции, на место другого является очень существенным двигателем моих умозаключений (там же, стр. 417).
Этот упрек, как и все прочие упреки Л. М. Лопатина, обусловливается его совершенным незнакомством с тем контекстом, из которого он выхватывает отдельные места и тексты моей книги. – Я высказываю свое отношение к «конечным субстанциям» по поводу учения Соловьева об идеях-субстанциях, которое, как известно, представляет собою переработку платоновского учения об идеях. Известно, что и у Платона и у Соловьева, мы имеем не смешение, а органический синтез двух определений идей: они суть в одно и то же время и сущее (όντως öv) или сущности (ούσίαι) и роды и виды (είδη και γενή) и постольку – качественные определения других существ, приобщающихся к идеям. В этом смысле у Платона идея-сущность (субстанция) есть вместе с тем и идея-качество; и сочетание обоих этих определений в одном понятии, очевидно, не может быть истолковано как их смешение. В моем изложении учения Соловьева я подчеркнул, что и у него в понятии идеи есть тот же синтез, сочетание тех же определений: и для него идея есть «безусловное качество каждого существа» (т. I, стр. 287), его сущность-качество (стр. 288), а в то же время – деятельная сила (стр. 289) и в качестве таковой – субстанция (стр. 290).
Вслед за Соловьевым и я усвояю в переработанном виде учение об идеях Платона (т. I, стр. 292–293), причем множественность субстанций у меня отпадает (как и у Соловьева в последний период) и отдельные идеи признаются субстанциальными лишь в качестве органически необходимых элементов всеединой идеи или субстанции в собственном смысле – «Софии». С этой точки зрения я имею такое же право, как и Платон или Соловьев, говорить и о «вечной идее-субстанции», в которой человек может утвердиться или не утвердиться, и в то же время об идее-сущности как о качественном определении или качестве того существа, которое к ней приобщается. Если я исполняю волю Божию, – идея или замысел Божий обо мне становится моим определением в обоих смыслах – и моим бытием (субстанцией) и моим качеством, ибо она выражает исчерпывающим образом всю мою жизнь и всю мою особенность. Охотно верю, что для Л. М. Лопатина такое сочетание представлений совершенно непонятно: этим только лишний раз доказывается, что все соловьевское учение об идее и о «Софии» (в особенности учение последнего периода) осталось целиком за пределами его кругозора.
VI
Всем сказанным достаточно подготовляется ответ на возражения Л. М. Лопатина по вопросу о бессмертии. Сам он, как мы видели, не отделяет бессмертия души от ее субстанциальности и сводит бессмертие к неуничтожимости душевной субстанции. Не делая при этом ни малейшей попытки перенестись на чужую точку зрения, он полагает, что и другие думают так же: когда я утверждаю, что Соловьев в последние годы своей жизни отрицал субстанциальность души, Л. М. Лопатин выводит отсюда, будто я приписываю Соловьеву отрицание бессмертия (кн. 123, стр. 506). На этом же основано его утверждение, будто и с моей точки зрения «у человека нет бессмертной души, она только впоследствии будет приобретена кое-кем из людей» (кн. 120, стр. 413).
На самом деле то, что Л. М. Лопатин называет моим учением о бессмертии, – не более и не менее как истолкование учения последнего периода Соловьева [27] , к которому я примыкаю. Своего учения о бессмертии я умышленно не развил, так как в пределах книги о Соловьеве основы моего собственного мировоззрения вообще могли быть только намечены, о чем я предупреждаю в моем предисловии (т. I, XI). За невозможностью изложить целую систему в пределах полемической статьи, я и здесь ограничусь кратким заявлением, что бессмертие я не отрицал и не отрицаю: в местах, приведенных Л. М. Лопатиным, есть вовсе не это отрицание, – а утверждение совсем другой мысли, принадлежащей Соловьеву: что сама в себе – безотносительно к той божественной идее, для которой она служит подставкой, – душа есть ничто: только в этой идее она приобретает бытие субстанциальное, вечное; вне же ее она обладает бытием лишь призрачным, которое уносится потоком времен: утвердиться в своей идее для души – значит устоять против всеобщего течения; не утвердиться, напротив, значит погибнуть. Больше ничего не заключается в тех моих утверждениях, которые приводятся Л. М. Лопатиным (кн. 120, стр. 412–413).
Как мог Л. М. усмотреть здесь отрицание христианского учения о бессмертии, для меня остается не совсем понятным. Учение о полном уничтожении грешников, которое он мне приписывает, у меня решительно нигде не выражено. Я не признаю предвечного существования душевной субстанции и вижу в человеческой душе предвечную потенцию, которая стала реальностью во времени. Но что же из этого следует? Если этим учением не исключается логическая возможность возвращения души в потенциальное состояние, то им не исключается и противоположная возможность – увековеченъя возникшей во времени души актом благодати: по-видимому, именно этим и отличается мое понимание бессмертия от понимания Л. М. Лопатина: по его учению душа бессмертна сама по себе, в силу своей субстанциальной природы: в моих глазах сама по себе она – ничто: только благодать соделывает ее бессмертною; вне благодати она обречена на смерть, – это утверждает и христианство, которое учит о второй смерти: как я понимаю «вторую смерть», – этого я пока невысказывал и до поры, до времени предпочитаю не высказывать. Кроме логической возможности понимать ее как простое уничтожение, есть и другая возможность – понимать ее как вечную (хотя и призрачную) длительность во времени (вечное горение в Гераклитовом токе). Признаком вечной смерти может оказаться то самое, в чем Л. М. Лопатин видит признак вечной жизни.
Вторая смерть вообще подлежит различным толкованиям; но при всяком толковании она – только возможность, а не необходимость. Из чего видно, будто с моей точки зрения вечная жизнь достанется только некоторым? Из того, что от нашего я зависит – «принять исходящий свыше дар вечной жизни или добровольно погрузиться в то ничто, из которого оно вызвано к жизни»? Но почем мы знаем, каково будет окончательное решение нашего я? Ведь я категорически заявляю, что мы этого не знаем: ибо «ни из чего не видно, что выбор между добром и злом, сделанный здесь, в земной жизни, должен быть окончательным» (т. II, стр. 408). Возможно, что все изберут добро и тогда все спасутся! Будет ли так или иначе, этого мы не знаем. Если Л. М. Лопатин приписывает мне в одном месте мнение, будто бессмертие будет приобретено только кое-кем, а в другом – будто спасутся все, это объясняется только его страстным желанием найти у меня противоречие. И тезис, и антитезис в этом противоречии составлены опять-таки не мною, а за меня – моим критиком.
На этом я могу кончить. Я сознательно оставляю без ответа целый ряд возражений Л. М. Лопатина и в частности – его возражений на мою первую полемическую статью. Думаю, что множество приведенных выше образцов его критического метода избавляет меня от этой печальной необходимости. Раз доказано, что вся моя работа в ее целом осталась зне кругозора моего критика, какой смысл может иметь спор о тех или других частностях? Что в возражениях Л. М. Лопатина, оставленных мною без рассмотрения, обнаруживается та же степень понимания и осведомленности о моей книге, как и в приведенных выше образцах его критики, – в этом и без моей помощи может убедиться всякий философски образованный читатель, который сопоставит то, что мне приписывается, с тем, что я говорю на самом деле.
Чтение статей Л. М. Лопатина производит впечатление, словно он сражается с противником, который скрыт от него шапкой-невидимкой: он не улавливает моей мысли даже там, где он, казалось бы, проходит совсем близко около нее. И эта неуловимость невидимого противника, в связи с желанием нанести ему сокрушительный удар, приводит критика в нервное состояние. Отсюда его противоречивые упреки мне: то он принимает меня за славянофила [28] и за последователя Тертуллиана, то за рационалиста, отрицающего бессмертие души и чуть ли не за единомышленника Льва Толстого [29] . То он обвиняет меня в дуализме, то, наоборот, в спинозизме. То он уверяет, что я гораздо последовательнее Соловьева в моем отрицании возможности доказательств бытия Божия, то, наоборот, что именно в этом отношении я в высшей степени непоследователен. То я обвиняюсь в том, что «совсем не передал» определенного взгляда Соловьева, то, наоборот, оказывается, что я изложил этот самый взгляд Соловьева с явным к нему сочувствием (см. выше, стр. 608–609). Я не сомневаюсь в том, как Л. М. объяснит эти внутренние противоречия его нападок: ему остается только доказывать, что все противоречия, какие есть в его критике, суть на самом деле – противоречия моей книги, что вследствие непродуманности моего изложения я являюсь зараз и сторонником Тертуллиана, и толстовцем, и дуалистом, и спинозистом, и т. п. Но о способе составления этих «моих» противоречий моим критиком мною уже достаточно сказано выше, и об этом мне нет больше надобности здесь распространяться.